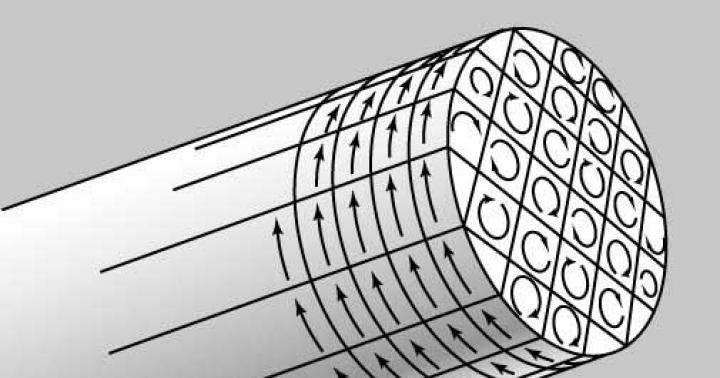Юрий Маркович Нагибин
ТЬМА В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Я похоронил мать. Вслед за ней ушел отчим, вдруг перед этим как-то странно, жалко и неприятно взбодрившийся для будущего. Прошло несколько лет, и мне захотелось воскресить образ матери через немногие сохранившиеся в доме материальные знаки ее существования. Все жалкие ее туалеты были розданы подругам, вещи поценнее реализовал отчим, собравшийся начать новую жизнь, оставалась круглая кожаная коробка из-под шляпы, набитая всякой дребеденью: обрывки вышивок, бисерная сумочка, лакированный кожаный кошелек для иголок, два-три колечка, Георгии - один на ленточке, связка писем, несколько фотографий, почему-то мама не отдала их мне для альбома - то ли не нравилась себе на них, то ли с ними связаны какие-то неприятные воспоминания. Я так и не удосужился узнать причину. Никогда не любил расспрашивать близких людей, довольствуясь тем, что они сообщали мне сами.
Было там еще немало всякой всячины: сломанное страусовое перо, некогда украшавшее мою мушкетерскую шляпу, черепаховый гребень, крошечный перламутровый театральный бинокль, не раскрывающийся веер и моя полосатая младенческая распашонка на пуговицах, невесть зачем притащившаяся за мной в старость. Мать относилась к этому хранилищу без всяких сантиментов: стоит коробка на шкафу, никому не мешает, ну и пусть стоит. Она рылась в ней очень редко, чтобы достать что-то нужное: маскарадный бинокль, бисерную сумочку для съемок ее приятельнице - маленькой киноактрисе, какую-нибудь особую иголку для шитья...
Я снял пыльно-муаровую коробку со шкафа, протер тряпкой и открыл. Все предметы оказались на месте, кроме колечек, - возможно, они были брошены в тигель новой жизни отчима. Вид бисерной сумочки, как всегда, доставил удовольствие, она была полосатая, каждая полоска своего цвета: красная, синяя, лиловая, белая, черная - и приятно мялась в ладони. Я подержал в руках все предметы, но чувствительные кончики пальцев не отзывались на их субстанцию: ни гладкому перламутру бинокля, ни сухой ости страусового пера, ни лакированной коже кошелька для иголок. И глаз оставался равнодушен, как и рука. Меня не тронули молодые мамины фотографии. Теперь я понял, почему она их не любила: при сходстве черт в них не было маминой сути. Странно, что я не замечал этого раньше. Два Георгия лишились даже того тусклого блеска, который они еще сохраняли, когда я последний раз заглядывал в коробку. Матовые, позеленевшие, утратившие почетный вес награды, они выглядели латунными подделками, как самонаграды сегодняшнего чучельного казачества. Все названные вещи и не названные не имели никакого отношения к матери и моей тоске по ней. Воскресить образ матери через материальные знаки ее существования, как я выразился с непонятным велеречием, мне не удалось. Мамы в коробке не оказалось.
Письма были перевязаны черной шелковой ленточкой. Я разорвал ее, распрямил верхний конверт. "Ее благородию Ксении Николаевне Красовской" значилось на конверте. Да, моя мать была "благородием" и осталась им в гуще советского хамства. Ну, что пишут "ее благородию"? По естественному психологическому ходу я вынул письмо из единственного конверта без адреса. Так же в магазине люди берут тот галстук, который имеется в одном экземпляре, и только эти галстуки составляют: массовую продукцию.
Безадресное письмо сперва расстреляло меня, уложив намертво, затем вернуло совсем в иную жизнь. Коробка не была мусорным ящиком. Она хранила суть.
"Милая Ксёнушка, - писал неведомый автор мелким, убористым почерком, словно экономил бумагу, - это письмо передаст тебе человек вполне надежный, но в качестве почтальона ты его не используй. И вообще не пиши мне до тех пор, пока я не дам тебе знать. Но знака может и не быть. Я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Прости меня. Мы ведь знали, что нам нельзя иметь ребенка. Но что поделать, если будущий гражданин так упорно хотел появиться на свет. Слушай меня внимательно. У него должен быть отец. Ты понимаешь, что я имею в виду? Время наступает серьезное, и надо забыть сантименты. Мне не выкрутиться, даже если я сейчас уцелею. Они не угомонятся, пока не перебьют всех. Тебе нужна защита. Одна ты не справишься, хотя ты сильная. С таким грузом, как я, не выплывешь. Меня надо вычеркнуть - раз и навсегда. Жизнь непредсказуема, вдруг кончится наваждение и бесы вернутся в преисподнюю. Ты веришь в это? Я - нет. Лучше и надежнее всего был бы Володя, он в чести у властей, но ведь Л. никогда этого не допустит. Да и вообще "не верь любви поэта, дева". Сеня тоже поэт, но не до такой степени, человек он хороший, но, к сожалению, бывший домовладелец, и это ему припомнят.
Остается Мара. Вы любили друг друга, думаю, он до сих пор любит тебя, что, конечно, не мешает его летучим романам. Я не верю в его отцовские качества, да ведь они и не требуются. Зато за ним прекрасная семья, могучий отец, чудесная мать, очаровательный брат. Это бастион - тебе не дадут пропасть. Я не берусь советовать, как все это устроить, в житейских делах ты умнее меня. Прости и прощай. К.".
Сейчас я не могу передать, что я чувствовал, читая это письмо. Но я и тогда не мог бы этого сделать, слишком много всего навалилось. Помню с абсолютной достоверностью ощущение грубой усталости и хамскую фразу, которую я произнес вслух:
Надо было гондон надеть.
Так я приветствовал возвращение моего отца.
И не то чтобы мне не понравился этот загробный голос. Скорее понравился. Он был мягок, серьезен, решителен, без всякого балласта раскаяния, сожаления, чувства вины и прочих интеллигентских слюней. Все по правде жизни, которая не бывает безукоризненной и предусмотрительной в каждом движении. Это было в духе и характере моей матери: когда судьба подносила ей очередную пакость, она не расплескивала эмоций, а сразу начинала действовать. И еще я подумал, что у них все равно ничего бы не вышло, люди должны отличаться друг от друга, чтобы выдержать долгую совместную жизнь. Чуть бы суше, насмешливей, и во мне это письмо прозвучало бы голосом матери.
Своей грубой фразой я ответил свинцовой усталости, вдруг навалившейся на меня. Как будто вся прожитая жизнь медленно прокатилась по мне своим тяжелым колесом.
Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверенный, что ничем не отличаюсь от остальной волчьей стаи. Но Маугли было легче обнаружить свою несхожесть с окружающим его одушевленным миром (звери Киплинга одушевлены), он был один такой - голый, бесшерстый, бесклыкий и бескогтистый, умеющий не только стоять, но и бегать на двух ногах. А вокруг все живые существа были на меня похожи - домашние животные не в счет, - и я долго не догадывался, что общность двуногих обманчива, что в людской несмети немало таких, что помечены незримым знаком неполноценности.
Затрудняюсь сказать, когда я обнаружил, что большинство мужчин и часть женщин, приходящих к нам в дом, принадлежат к этому племени изгоев, равно как и мой лучший друг Миша (на детских фотографиях, сделанных чистопруд-ным фотографе м-пушкарем, рядом со мной, на фоне белого замка, пальм и дирижабля в курчавом небе, неизменно стоит, красиво выставив ногу, элегантный мальчик, сливоглазый брюнетик с прической, которую называли "бубикопф") тоже принадлежит к касте меченых, и что ббльшая часть детей, с которыми мы играем каждый день в Абрикосовском саду и обмениваемся время от времени визитами, из того же племени.
А ведь я знал чуть ли не с рождения о неодинаковости людей, казавшейся мне естественной и ни для кого не обидной. Моя семья, я сам, наши гости, мои друзья по саду, прогулкам и детским праздникам - интеллигенты, а все остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим исключением, дворовые сверстники, с которыми я до поры не водился, - холуи. Так, во всяком случае, называла их моя мать, что не мешало ей легко находить с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на родности, а на прямо противоположном - мгновенном и радостном узнавании плебеями барской - высшей - сути моей матери. Видимо, революция не смогла уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.
ЮРИЙ НАГИБИН
ТЬМА В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Я похоронил мать. Вслед за ней ушел отчим, вдруг перед этим как-то
странно, жалко и неприятно взбодрившийся для будущего. Прошло несколько лет,
и мне захотелось воскресить образ матери через немногие сохранившиеся в доме
материальные знаки ее существования. Все жалкие ее туалеты были розданы
подругам, вещи поценнее реализовал отчим, собравшийся начать новую жизнь,
оставалась круглая кожаная коробка из-под шляпы, набитая всякой дребеденью:
обрывки вышивок, бисерная сумочка, лакированный кожаный кошелек для иголок,
два-три колечка, Георгии - один на ленточке, связка писем, несколько
фотографий, почему-то мама не отдала их мне для альбома - то ли не
нравилась себе на них, то ли с ними связаны какие-то неприятные
воспоминания. Я так и не удосужился узнать причину. Никогда не любил
расспрашивать близких людей, довольствуясь тем, что они сообщали мне сами.
Было там еще немало всякой всячины: сломанное страусовое перо, некогда
украшавшее мою мушкетерскую шляпу, черепаховый гребень, крошечный
перламутровый театральный бинокль, не раскрывающийся веер и моя полосатая
младенческая распашонка на пуговицах, невесть зачем притащившаяся за мной в
старость. Мать относилась к этому хранилищу без всяких сантиментов: стоит
коробка на шкафу, никому не мешает, ну и пусть стоит. Она рылась в ней очень
редко, чтобы достать что-то нужное: маскарадный бинокль, бисерную сумочку
для съемок ее приятельнице - маленькой киноактрисе, какую-нибудь особую
иголку для шитья...
Я снял пыльно-муаровую коробку со шкафа, протер тряпкой и открыл. Все
предметы оказались на месте, кроме колечек, - возможно, они были брошены в
тигель новой жизни отчима. Вид бисерной сумочки, как всегда, доставил
удовольствие, она была полосатая, каждая полоска своего цвета: красная,
синяя, лиловая, белая, черная - и приятно мялась в ладони. Я подержал в
руках все предметы, но чувствительные кончики пальцев не отзывались на их
субстанцию: ни гладкому перламутру бинокля, ни сухой ости страусового пера,
ни лакированной коже кошелька для иголок. И глаз оставался равнодушен, как и
рука. Меня не тронули молодые мамины фотографии. Теперь я понял, почему она
их не любила: при сходстве черт в них не было маминой сути. Странно, что я
не замечал этого раньше. Два Георгия лишились даже того тусклого блеска,
который они еще сохраняли, когда я последний раз заглядывал в коробку.
Матовые, позеленевшие, утратившие почетный вес награды, они выглядели
латунными подделками, как самонаграды сегодняшнего чучельного казачества.
Все названные вещи и не названные не имели никакого отношения к матери и
моей тоске по ней. Воскресить образ матери через материальные знаки ее
существования, как я выразился с непонятным велеречием, мне не удалось. Мамы
в коробке не оказалось.
Письма были перевязаны черной шелковой ленточкой. Я разорвал ее,
распрямил верхний конверт. "Ее благородию Ксении Николаевне Красовской" -
значилось на конверте. Да, моя мать была "благородием" и осталась им в гуще
советского хамства. Ну, что пишут "ее благородию"? По естественному
психологическому ходу я вынул письмо из единственного конверта без адреса.
Так же в магазине люди берут тот галстук, который имеется в одном
экземпляре, и только эти галстуки составляют: массовую продукцию.
Безадресное письмо сперва расстреляло меня, уложив намертво, затем
вернуло совсем в иную жизнь. Коробка не была мусорным ящиком. Она хранила
суть.
"Милая Ксенушка, - писал неведомый автор мелким, убористым почерком,
словно экономил бумагу, - это письмо передаст тебе человек вполне надежный,
но в качестве почтальона ты его не используй. И вообще не пиши мне до тех
пор, пока я не дам тебе знать. Но знака может и не быть. Я зашел слишком
далеко, чтобы повернуть назад. Прости меня. Мы ведь знали, что нам нельзя
иметь ребенка. Но что поделать, если будущий гражданин так упорно хотел
появиться на свет. Слушай меня внимательно. У него должен быть отец. Ты
понимаешь, что я имею в виду? Время наступает серьезное, и надо забыть
сантименты. Мне не выкрутиться, даже если я сейчас уцелею. Они не
угомонятся, пока не перебьют всех. Тебе нужна защита. Одна ты не справишься,
хотя ты сильная. С таким грузом, как я, не выплывешь. Меня надо вычеркнуть
- раз и навсегда. Жизнь непредсказуема, вдруг кончится наваждение и бесы
вернутся в преисподнюю. Ты веришь в это? Я - нет. Лучше и надежнее всего
был бы Володя, он в чести у властей, но ведь Л. никогда этого не допустит.
Да и вообще "не верь любви поэта, дева". Сеня тоже поэт, но не до такой
степени, человек он хороший, но, к сожалению, бывший домовладелец, и это ему
припомнят.
Остается Мара. Вы любили друг друга, думаю, он до сих пор любит тебя,
что, конечно, не мешает его летучим романам. Я не верю в его отцовские
качества, да ведь они и не требуются. Зато за ним прекрасная семья, могучий
отец, чудесная мать, очаровательный брат. Это бастион - тебе не дадут
пропасть. Я не берусь советовать, как все это устроить, в житейских делах ты
умнее меня. Прости и прощай. К.".
Сейчас я не могу передать, что я чувствовал, читая это письмо. Но я и
тогда не мог бы этого сделать, слишком много всего навалилось. Помню с
абсолютной достоверностью ощущение грубой усталости и хамскую фразу, которую
я произнес вслух:
- Надо было гондон надеть.
Так я приветствовал возвращение моего отца.
И не то чтобы мне не понравился этот загробный голос. Скорее
понравился. Он был мягок, серьезен, решителен, без всякого балласта
раскаяния, сожаления, чувства вины и прочих интеллигентских слюней. Все по
правде жизни, которая не бывает безукоризненной и предусмотрительной в
каждом движении. Это было в духе и характере моей матери: когда судьба
подносила ей очередную пакость, она не расплескивала эмоций, а сразу
начинала действовать. И еще я подумал, что у них все равно ничего бы не
вышло, люди должны отличаться друг от друга, чтобы выдержать долгую
совместную жизнь. Чуть бы суше, насмешливей, и во мне это письмо прозвучало
бы голосом матери.
Своей грубой фразой я ответил свинцовой усталости, вдруг навалившейся
на меня. Как будто вся прожитая жизнь медленно прокатилась по мне своим
тяжелым колесом.
Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверенный, что ничем не
отличаюсь от остальной волчьей стаи. Но Маугли было легче обнаружить свою
несхожесть с окружающим его одушевленным миром (звери Киплинга одушевлены),
он был один такой - голый, бесшерстый, бесклыкий и бескогтистый, умеющий не
только стоять, но и бегать на двух ногах. А вокруг все живые существа были
на меня похожи - домашние животные не в счет, - и я долго не догадывался,
что общность двуногих обманчива, что в людской несмети немало таких, что
помечены незримым знаком неполноценности.
Затрудняюсь сказать, когда я обнаружил, что большинство мужчин и часть
женщин, приходящих к нам в дом, принадлежат к этому племени изгоев, равно
как и мой лучший друг Миша (на детских фотографиях, сделанных чистопруд-ным
фотографе м-пушкарем, рядом со мной, на фоне белого замка, пальм и дирижабля
в курчавом небе, неизменно стоит, красиво выставив ногу, элегантный мальчик,
сливоглазый брюнетик с прической, которую называли "бубикопф") тоже
принадлежит к касте меченых, и что ббльшая часть детей, с которыми мы играем
каждый день в Абрикосовском саду и обмениваемся время от времени визитами,
из того же племени.
А ведь я знал чуть ли не с рождения о неодинаковости людей, казавшейся
мне естественной и ни для кого не обидной. Моя семья, я сам, наши гости, мои
друзья по саду, прогулкам и детским праздникам - интеллигенты, а все
остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим
исключением, дворовые сверстники, с которыми я до поры не водился, - холуи.
Так, во всяком случае, называла их моя мать, что не мешало ей легко находить
с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на
родности, а на прямо противоположном - мгновенном и радостном узнавании
плебеями барской - высшей - сути моей матери. Видимо, революция не смогла
уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.
Холуями - мама не вкладывала презрительного, уничижительного смысла в
это слово, просто констатировала социальную принадлежность - были: и
хранительница моих детских лет, добрый гений дома, любимейшая из любимых
Вероня, и ее сестра, чудесная Катя, недолгое время состоявшая в моих
няньках, и те огромные семьи, что вселялись в освобождающиеся со смертью или
по другим причинам убывания моих родных комнаты некогда принадлежавшей нам
целиком квартиры, любая обслуга, будь то дворник, истопник, монтер, продавец
в магазине, парикмахер, зеленщик из деревни, привозивший на розвальнях
квашеную капусту и соленые огурцы, молочница с жестяными бидонами, пахнущими
антоновским яблоком, холуем был и управдом, первый представитель советской
власти в моей жизни, которого я почитал, боялся и ненавидел.
Меня удивило сунувшееся под перо слово "почитать". Неужели я "почитал"
мрачного, молчаливого, с ножевым выблеском угрюмого взгляда исподлобья холуя
Дедкова? Да, таково было предписанное дедом, главой семьи, отношение всех,
кроме матери, позволявшей себе взбрыкивать, к молодой, смертельно опасной
власти. Этот урок рабства остался со мной на всю жизнь. К любому начальству,
встречавшемуся мне на моем пути: руководителям Союза писателей, партийным
секретарям разного ранга, вызывавшим меня на правеж, директорам издательств,
главным редакторам журналов и газет, армейским командирам в дни войны, - я
относился с ненавистью, презрением и почтением, благодарный им за все то
зло, которое они могли мне сделать, но делали не до конца.
А теперь меня остановило слово "молодой" в приложении к дьяволиаде,
искалечившей жизнь моих родителей, мою собственную, моих детей и внуков, не
прекрати я род. "Молодой" - это что-то свежее, обещающее, летящее. Дико
звучит "молодой палач" или "молодой убийца". Но власть действительно была
очень молода, всего на три года старше меня. Боже, на какую же малость
разминулся я со временем, заставлявшим так мечтательно вспыхивать зеленые,
вечно озабоченные глаза матери! Она была тогда "их благородием Ксенией
Николаевной Красовской", так значится на конвертах немногих сохранившихся
старых писем. Мать слишком любила свое прошлое, чтобы лакомиться им в
засушенном виде.
Едва осознав свое бытие, я стал ощущать эпоху, оставшуюся за чертой,
как единый временной пласт. У меня было такое же отношение к времени, как у
древних греков. Для современников Перикла историческая война с персами и
разрушение легендарной Трои не имели временного разрыва, и то и другое
происходило раньше, не теперь. А когда - греческое сознание это не
занимало, было за пределами постижения. Я ужасно раздражал маму расспросами
о наполеоновском нашествии, требуя частных подробностей, как от очевидицы
тех волнующих событий. Объяснить такой идиотизм - или тут что-то другое? -
невозможно, но уже школьником, влюбленный в "Трех мушкетеров", я допускал
встречу со старым д"Артаньяном и трепетно ждал ее. Такой ли уж это брел?
Боборыкин, появившись на свет, год прожил при Пушкине, а покидая земную
юдоль, год прожил при мне. Одна-единственная жизнь разделяет и вместе -
соединяет меня с Пушкиным.
Вернемся к холуям. Они делились на тех, кто зависел от нас: Вероня, ее
многочисленная родня, соседи, бесплатно лечившиеся у моего деда, - как во
всех холуйских семьях, у них беспрерывно болели дети всеми подряд
инфекционными болезнями (дыша этим пропитанным микробами воздухом, я ни разу
ничем не заразился), и на холуев, которые от нас не завчсели, - их мы
побаивались, опять же все, кроме мамы. Таким образом, первое различие людей,
открывшееся мне, лежало в области социальной, хотя я не уверен, что это
слово подходит, ведь интеллигенция - не класс, а прослойка, холуи же вообще
понятие аморфное. Но читатель поймет, что я имею в виду. И вот не домашняя
легенда, а истина, подтвержденная многочислен-ными свидетельствами: после
младенческого каннибальского языка, всех этих "мням-мням", "тпруа", "бо-бо"
и тому подобного, после "мамы", "Верони", чуть позже "папы", так назвал я
под общим давлением малознакомого человека, чье назначение в доме мне было
неясно, я отчетливо и громко произнес "интеллигенция". Затем, помолчав и
словно подумав, я сказал: "электричество", после чего, потрясенный этими
лингвистическими подвигами, заткнулся на целый год. Родные ужасались, что я
онемел, но, исполнив невесть кому данный обет молчания, я принялся болтать и
не могу остановиться до сегодняшнего дня. Самое поразительное, что,
произнеся слово "интеллигенция", я знал, что оно означает. Эта ясность с
годами затуманилась, а в близости исхода я окончательно запутался. Хуже
обстояло с "электричеством", я и тогда не понимал и сейчас не понимаю, что
это такое. Мне вдруг пришло в голову, что мое младенческое, дремлющее
сознание искало нечго похожее на знаменитую ленинскую формулу коммунизма.
Понятие "интеллигент" допускает широкое толкование, наше было не лучше
и не хуже всех других, а вот "холуй" в нашем семейном понимании не совпадал
с общеупотребительным, производящим от него глагол "холуйничать" -
пресмыкаться, заискивать перед власть имущими, для нас "холуй" - это
простолюдин, черная кость или, более старое, хам.
Я похоронил мать. Вслед за ней ушел отчим, вдруг перед этим как-то странно, жалко и неприятно взбодрившийся для будущего. Прошло несколько лет, и мне захотелось воскресить образ матери через немногие сохранившиеся в доме материальные знаки ее существования. Все жалкие ее туалеты были розданы подругам, вещи поценнее реализовал отчим, собравшийся начать новую жизнь, оставалась круглая кожаная коробка из-под шляпы, набитая всякой дребеденью: обрывки вышивок, бисерная сумочка, лакированный кожаный кошелек для иголок, два-три колечка, Георгии - один на ленточке, связка писем, несколько фотографий, почему-то мама не отдала их мне для альбома - то ли не нравилась себе на них, то ли с ними связаны какие-то неприятные воспоминания. Я так и не удосужился узнать причину. Никогда не любил расспрашивать близких людей, довольствуясь тем, что они сообщали мне сами.
Было там еще немало всякой всячины: сломанное страусовое перо, некогда украшавшее мою мушкетерскую шляпу, черепаховый гребень, крошечный перламутровый театральный бинокль, не раскрывающийся веер и моя полосатая младенческая распашонка на пуговицах, невесть зачем притащившаяся за мной в старость. Мать относилась к этому хранилищу без всяких сантиментов: стоит коробка на шкафу, никому не мешает, ну и пусть стоит. Она рылась в ней очень редко, чтобы достать что-то нужное: маскарадный бинокль, бисерную сумочку для съемок ее приятельнице - маленькой киноактрисе, какую-нибудь особую иголку для шитья...
Я снял пыльно-муаровую коробку со шкафа, протер тряпкой и открыл. Все предметы оказались на месте, кроме колечек, - возможно, они были брошены в тигель новой жизни отчима. Вид бисерной сумочки, как всегда, доставил удовольствие, она была полосатая, каждая полоска своего цвета: красная, синяя, лиловая, белая, черная - и приятно мялась в ладони. Я подержал в руках все предметы, но чувствительные кончики пальцев не отзывались на их субстанцию: ни гладкому перламутру бинокля, ни сухой ости страусового пера, ни лакированной коже кошелька для иголок. И глаз оставался равнодушен, как и рука. Меня не тронули молодые мамины фотографии. Теперь я понял, почему она их не любила: при сходстве черт в них не было маминой сути. Странно, что я не замечал этого раньше. Два Георгия лишились даже того тусклого блеска, который они еще сохраняли, когда я последний раз заглядывал в коробку. Матовые, позеленевшие, утратившие почетный вес награды, они выглядели латунными подделками, как самонаграды сегодняшнего чучельного казачества. Все названные вещи и не названные не имели никакого отношения к матери и моей тоске по ней. Воскресить образ матери через материальные знаки ее существования, как я выразился с непонятным велеречием, мне не удалось. Мамы в коробке не оказалось.
Письма были перевязаны черной шелковой ленточкой. Я разорвал ее, распрямил верхний конверт. "Ее благородию Ксении Николаевне Красовской" значилось на конверте. Да, моя мать была "благородием" и осталась им в гуще советского хамства. Ну, что пишут "ее благородию"? По естественному психологическому ходу я вынул письмо из единственного конверта без адреса. Так же в магазине люди берут тот галстук, который имеется в одном экземпляре, и только эти галстуки составляют: массовую продукцию.
Безадресное письмо сперва расстреляло меня, уложив намертво, затем вернуло совсем в иную жизнь. Коробка не была мусорным ящиком. Она хранила суть.
"Милая Ксёнушка, - писал неведомый автор мелким, убористым почерком, словно экономил бумагу, - это письмо передаст тебе человек вполне надежный, но в качестве почтальона ты его не используй. И вообще не пиши мне до тех пор, пока я не дам тебе знать. Но знака может и не быть. Я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Прости меня. Мы ведь знали, что нам нельзя иметь ребенка. Но что поделать, если будущий гражданин так упорно хотел появиться на свет. Слушай меня внимательно. У него должен быть отец. Ты понимаешь, что я имею в виду? Время наступает серьезное, и надо забыть сантименты. Мне не выкрутиться, даже если я сейчас уцелею. Они не угомонятся, пока не перебьют всех. Тебе нужна защита. Одна ты не справишься, хотя ты сильная. С таким грузом, как я, не выплывешь. Меня надо вычеркнуть - раз и навсегда. Жизнь непредсказуема, вдруг кончится наваждение и бесы вернутся в преисподнюю. Ты веришь в это? Я - нет. Лучше и надежнее всего был бы Володя, он в чести у властей, но ведь Л. никогда этого не допустит. Да и вообще "не верь любви поэта, дева". Сеня тоже поэт, но не до такой степени, человек он хороший, но, к сожалению, бывший домовладелец, и это ему припомнят.
Остается Мара. Вы любили друг друга, думаю, он до сих пор любит тебя, что, конечно, не мешает его летучим романам. Я не верю в его отцовские качества, да ведь они и не требуются. Зато за ним прекрасная семья, могучий отец, чудесная мать, очаровательный брат. Это бастион - тебе не дадут пропасть. Я не берусь советовать, как все это устроить, в житейских делах ты умнее меня. Прости и прощай. К.".
Сейчас я не могу передать, что я чувствовал, читая это письмо. Но я и тогда не мог бы этого сделать, слишком много всего навалилось. Помню с абсолютной достоверностью ощущение грубой усталости и хамскую фразу, которую я произнес вслух:
Надо было гондон надеть.
Так я приветствовал возвращение моего отца.
И не то чтобы мне не понравился этот загробный голос. Скорее понравился. Он был мягок, серьезен, решителен, без всякого балласта раскаяния, сожаления, чувства вины и прочих интеллигентских слюней. Все по правде жизни, которая не бывает безукоризненной и предусмотрительной в каждом движении. Это было в духе и характере моей матери: когда судьба подносила ей очередную пакость, она не расплескивала эмоций, а сразу начинала действовать. И еще я подумал, что у них все равно ничего бы не вышло, люди должны отличаться друг от друга, чтобы выдержать долгую совместную жизнь. Чуть бы суше, насмешливей, и во мне это письмо прозвучало бы голосом матери.
Своей грубой фразой я ответил свинцовой усталости, вдруг навалившейся на меня. Как будто вся прожитая жизнь медленно прокатилась по мне своим тяжелым колесом.
Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверенный, что ничем не отличаюсь от остальной волчьей стаи. Но Маугли было легче обнаружить свою несхожесть с окружающим его одушевленным миром (звери Киплинга одушевлены), он был один такой - голый, бесшерстый, бесклыкий и бескогтистый, умеющий не только стоять, но и бегать на двух ногах. А вокруг все живые существа были на меня похожи - домашние животные не в счет, - и я долго не догадывался, что общность двуногих обманчива, что в людской несмети немало таких, что помечены незримым знаком неполноценности.
Затрудняюсь сказать, когда я обнаружил, что большинство мужчин и часть женщин, приходящих к нам в дом, принадлежат к этому племени изгоев, равно как и мой лучший друг Миша (на детских фотографиях, сделанных чистопруд-ным фотографе м-пушкарем, рядом со мной, на фоне белого замка, пальм и дирижабля в курчавом небе, неизменно стоит, красиво выставив ногу, элегантный мальчик, сливоглазый брюнетик с прической, которую называли "бубикопф") тоже принадлежит к касте меченых, и что ббльшая часть детей, с которыми мы играем каждый день в Абрикосовском саду и обмениваемся время от времени визитами, из того же племени.
А ведь я знал чуть ли не с рождения о неодинаковости людей, казавшейся мне естественной и ни для кого не обидной. Моя семья, я сам, наши гости, мои друзья по саду, прогулкам и детским праздникам - интеллигенты, а все остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим исключением, дворовые сверстники, с которыми я до поры не водился, - холуи. Так, во всяком случае, называла их моя мать, что не мешало ей легко находить с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на родности, а на прямо противоположном - мгновенном и радостном узнавании плебеями барской - высшей - сути моей матери. Видимо, революция не смогла уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.
Тьма в конце тоннеля (сборник) Юрий Нагибин
(Пока оценок нет)
 Название: Тьма в конце тоннеля (сборник)
Название: Тьма в конце тоннеля (сборник)
О книге Юрий Нагибин «Тьма в конце тоннеля (сборник)»
В этом томе лучшие образцы прозы Юрия Нагибина разных жанров. «Встань и иди» – повесть об отце и о беспощадно жестоком мире его предвоенного детства. «Ночной гость» – рассказ чеховских интонаций и полутонов. Рассказ, по которому был поставлен фильм с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. «Терпение» и «Поездка на острова» о тех, кто нашел любовь и сразу ее потерял, о жутких гримасах времени, о воле и мужестве, о совести и разнузданности. У Юрия Нагибина никогда не было иллюзий относительно времени и места: он четко фиксировал духоту, бездарность, конформизм, разрушение и «тяжкую одурь» общества. Но когда в 90-е годы он вновь увидел зловещие черты фашизма, юдофобии, и прочие признаки «советской скверны», появилась повесть «Тьма в конце тоннеля».
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу Юрий Нагибин «Тьма в конце тоннеля (сборник)» в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Скачать бесплатно книгу Юрий Нагибин «Тьма в конце тоннеля (сборник)»
В формате
fb2
:
Скачать
В формате
rtf
: